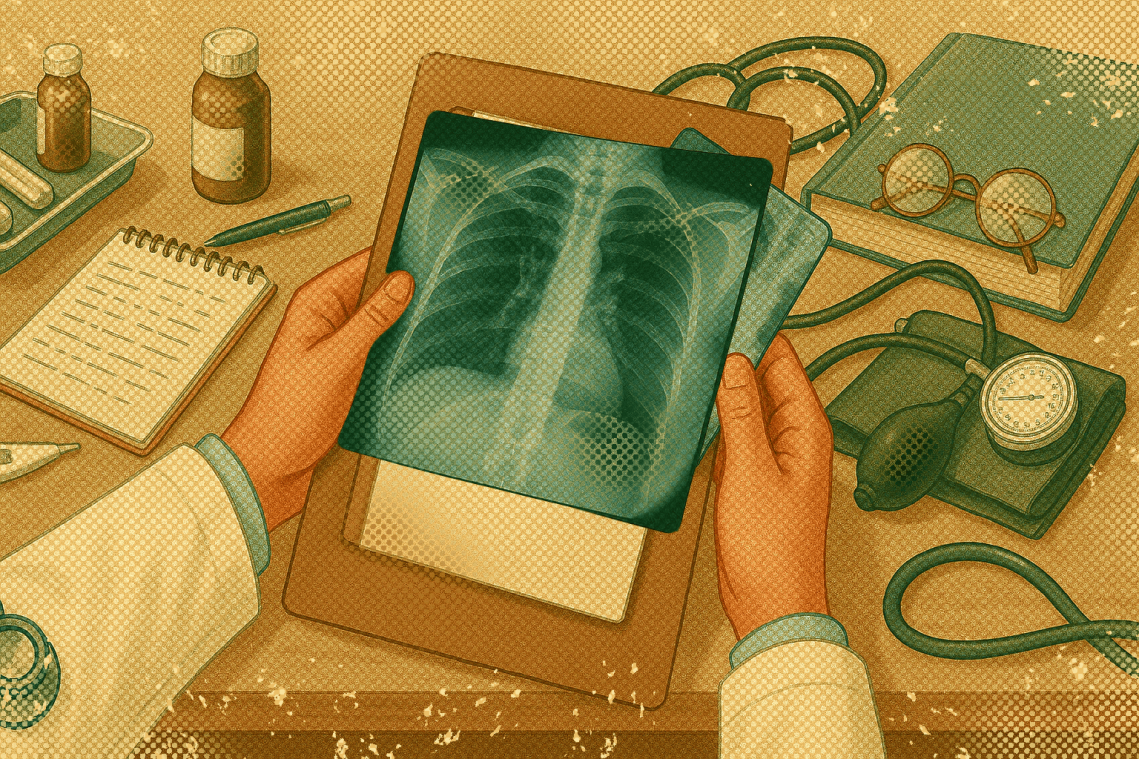Профосмотр — важнейшая часть системы охраны труда. На нём нужно выяснить, сможет ли сотрудник справиться с нагрузкой, характерной для его профессии, особенно если речь идёт о вахтовой работе или удалённых территориях. Однако реальная практика далеко не всегда соответствует этой задаче. Страх потерять работу, недоверие к медицинской системе, нормативная база, требующая доработок, и недостаточная независимость экспертизы — всё это влияет на качество профосмотра и здоровье сотрудников.
Разобраться, как изменилась система за последние годы и что с ней происходит на практике, мы попросили Наталью Владимировну Котову — эксперта с многолетним опытом, работающего с самыми разными видами обязательных медицинских осмотров и освидетельствований, в том числе на удалённых объектах. Вместе мы обсудили новые приказы по профосмотрам, то, как устроены обследования сегодня, чего им недостаёт и как сделать их действительно полезными и эффективными для всех участников процесса.
Заведующая консультативно-диагностической поликлиникой автономного учреждения ХМАО-Югры «Центр профессиональной патологии», врач-профпатолог, терапевт, организатор здравоохранения, ассистент кафедры терапии Медицинского института БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»
Что изменилось в законодательстве и нормативной базе профосмотров к 2025 году
С момента выхода приказа № 29н прошло уже несколько лет. Какие принципиальные изменения вы видите в практике профосмотров?
Приказ по профосмотрам 29н сократил перечень обследований, обязательных для проведения профосмотра. Особенно это заметно по сравнению с 302-м приказом, по которому пациенты, контактировавшие с вредными факторами, проходили расширенное обследование в Центрах профпатологии — с электронейромиографией, УЗИ сосудов, развёрнутыми анализами крови, консультациями узких специалистов: эндокринологов, онкологов. Сейчас все медицинские осмотры уравнены, и на врачей-профпатологов легла гораздо большая нагрузка по самостоятельному выявлению профессиональных заболеваний — без дополнительных инструментов-помощников, используемых в приказе по профосмотрам 302н.
На практике это означает, что мы, при проведении очередного медицинского осмотра в Центре профессиональной патологии, всё чаще видим только явные проявления: выраженную тугоухость, грубые неврологические симптомы после воздействия вибрации и другие состояния, которые уже невозможно не заметить. Раннюю диагностику профессиональной патологии сразу на медицинском осмотре стало проводить гораздо сложнее. В этом смысле приказ министерства здравоохранения 29н приравнял профессиональные осмотры к профилактическим, проводимым в рамках всеобщей диспансеризации, и сосредоточил внимание системы на контроле хронических неинфекционных заболеваний (далее — ХНИЗ). ХНИЗ — это неинфекционные заболевания, которые являются основной причиной смертности и инвалидности в популяции.
Но новый формат упростил доступ к профосмотрам: если раньше в удалённых или сельских населённых пунктах многие клиники отказывались их проводить из-за большого объёма обследований, то сейчас практически любая лицензированная организация может справиться с утверждённым в приказе 29н объёмом исследований. Это плюс.
Есть ли сейчас разночтения или пробелы в нормативах, мешающие врачам принимать взвешенные решения?
Такие ситуации возникают регулярно. Ранее, согласно приказу 302н, врачебная комиссия часто могла индивидуально принимать решения: оценивать общее состояние человека и отстранять от работы либо допускать. Сейчас, по приказу 29н, противопоказания по многим нозологиям жёстко привязаны к стадии и степени имеющегося хронического заболевания, без возможности допуска или отстранения работника решением врачебной комиссии медицинской организации с учётом общего состояния сотрудника на профессиональном осмотре.
Формально мы обязаны ориентироваться только на те параметры, которые прописаны в нормативных документах. Если врачебная комиссия начнёт действовать, то есть допускать к работам, по своему усмотрению — это будет нарушением либо закона, либо прав гражданина на труд. Поэтому, да, иногда мы понимаем, что человеку опасно ехать на вахту, но ничего сделать не можем.
Но есть и другие ситуации: когда врачебная комиссия понимает, что сотрудник может осуществлять вид деятельности, указанный работодателем в направлении, а, в соответствии с нормами приказа 29н, сотрудник отстраняется от выполнения трудовой деятельности навсегда, так как право принимать дополнительное решение врачебной комиссией в приказе 29н не прописано.
К примеру, сотрудник К., 40 лет, водитель, 20 лет стажа, с диагнозом «гипертоническая болезнь II стадии, контролируемая артериальная гипертензия», которому профилактически проведено стентирование небольшого коронарного сосуда, автоматически по закону переводится кардиологом под наблюдение с диагнозом «гипертоническая болезнь III стадии, контролируемая артериальная гипертензия» и навсегда теряет право работать.
Как работодатели и медорганизации справляются с трактовкой расплывчатых формулировок?
Все трактовки идут в пользу работника. Никто из медорганизаций сейчас не берёт на себя риск отказа без чётких оснований. Если по результатам обследований у сотрудника не выявлено однозначных противопоказаний — его допускают. Даже если врач внутренне не уверен, даже если есть сомнения.
Иногда сотрудники приносят дополнительные заключения — от кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов. Мы их учитываем. Но если диагноз сотрудника не подпадает под запрещающие критерии приказа 29н — ничего поделать нельзя.
Контроль за такими сотрудниками на местах пока слабый. Цеховая служба только начала восстанавливаться. Большие предприятия потихоньку развивают фельдшерские пункты, усиливают предсменные, в течение смены и послесменные осмотры — и это хороший тренд. Появилась новая нормативная база, позволяющая организовывать наблюдение за сотрудниками дистанционно по приказу 266н. Кто-то закупает готовые решения, кто-то организует свою службу. Но уже сейчас мы движемся к тому, чтобы реально следить за здоровьем сотрудников в условиях вахтовой работы. И это важно.
Практика: что входит в профосмотр-2025
Какие обследования до сих пор формальны и неэффективны?
Часто звучит мнение, что такие анализы, как общий анализ крови или мочи, ЭКГ, — это «для галочки». На практике это не совсем так. Современная аппаратура в лабораториях позволяет извлечь из этих простых анализов гораздо больше информации: насыщение эритроцитов кислородом, формула крови, диаметр тромбоцита, наличие солей и недопустимых микроэлементов в моче. Главное — как врач умеет читать данные лабораторные результаты. Если у врача высокая квалификация, он может буквально по этим базовым показателям рассказать о пациенте целую историю. Поэтому я считаю, что нужно не отменять такие исследования, а повышать квалификацию специалистов, особенно врачей-профпатологов.
То же самое и с ЭКГ. Это не просто «линия с зубцами». Качественное описание позволяет понять, как работает сердце, есть ли на него нагрузка, хватает ли микроэлементов в организме сотрудника и есть ли необходимость в дополнительном обследовании. И мы, как врачи-специалисты и как врачи-профпатологи, имеем право приостановить профосмотр и направить человека на дополнительное обследование. Так что назвать эти исследования формальными было бы ошибкой.
Перечень обязательных исследований, входящих в профосмотр в соответствии с приказом Минздрава РФ № 29н
Какие методы обследования сегодня особенно важны, но по каким-то причинам не входят в стандарт?
Очень бы хотелось, чтобы в стандарт профосмотра вошли онкомаркеры и тесты на скрытую кровь. Анализы на ПСА для мужчин, СА-125 для женщин, исследование кала на скрытую кровь. Эти показатели можно узнать, если пройти диспансеризацию, но они не попадают в обязательные профосмотры. Работающее население не желает проходить медицинские осмотры более одного раза в год. По этой причине считаю, что первостепенная задача здравоохранения России — уравнять обследования при диспансеризации и обследования, необходимые для допуска к вредным условиям труда в части поиска ХНИЗ, и однозначно расширить перечень обследований при профессиональных осмотрах применительно к поиску первых признаков профессиональной патологии.
Есть и другие спорные позиции. К примеру, анализы на АСТ, АЛТ. Они тоже входят в диспансеризацию, особенно у определённой категории старше 40 лет, и могли бы давать ценную информацию. Но включить их в обязательную часть профессионального осмотра без привязки к вредным факторам (это важно при работе с азотом и его соединениями) пока сложно: нужна аналитика, исследования, расчёты. Иначе это будут просто потраченные деньги работодателя без ощутимого эффекта.
Удалось ли за последние годы как-то лучше связать профосмотр с реальными условиями труда сотрудника?
Всё очень зависит от качества специальной оценки условий труда (СОУТ), которую проводит предприятие. Это ключевая отправная точка. Мы видим, что по одной и той же профессии, скажем электрогазосварщик, разные предприятия могут указать совершенно разные вредности. В одном случае — испарения, газы, тяжёлые условия труда, вахтовый метод работы. В другом — только вахтовый метод работы.
И это критично: чем больше вредных факторов указано, тем больше обследований получает сотрудник. Значит, у профпатолога появляется шанс выявить первые признаки профессиональной болезни раньше, вовремя обеспечить оказание необходимой медицинской помощи и профессиональной реабилитации. А если СОУТ формальная и поверхностная, человек может годами работать в тяжёлых условиях, а медицинская система будет его оценивать как «условно здорового». В итоге мы получаем хронические болезни в запущенном состоянии. Поэтому без нормальной оценки условий труда невозможно выстроить качественную профилактику профессиональной заболеваемости.
Что вы видите на практике: как сейчас организованы профосмотры на удалённых объектах?
Есть несколько моделей. Первый вариант — выезд мобильных бригад. Это полноценный состав специалистов: 10–11 врачей, сотрудники, выполняющие лабораторную и функциональную диагностику, медицинские сёстры. Всё оборудование привозится с собой, никаких послаблений в объёме обследований нет.
Второй — если на объекте уже есть здравпункт. Тогда медицинская организация получает лицензию на проведение профосмотров прямо на месте, а врачи приезжают как обычная бригада. Помещения оборудованы заранее, есть места для отдыха, лабораторные и диагностические зоны.
Третий вариант — плавучие поликлиники. Такие есть в Томской области и ХМАО. В навигационный период бригада врачей и сотрудников, проводящих лабораторную клиническую диагностику, добирается до труднодоступных территорий по рекам. Там проходят профосмотры не только сотрудники удалённых предприятий, но и работники школ, детских садов, а также другие местные жители, нуждающиеся в проведении обязательных профессиональных медицинских осмотров.
Иногда профосмотры для сотрудников организуются так, что к ним присоединяются и жители ближайших сёл — получают базовую медпомощь, которую больше нигде в течение года не могут получить. И в таких удалённых местах проблемы отказа от профосмотра нет. Население удалённых районов ждёт эту бригаду врачей и относится к проведению медицинских осмотров очень серьёзно.
Во многих северных регионах профосмотры возможны только благодаря работе мобильных медицинских бригад
Что мешает сделать профосмотры реально полезными
Какие системные барьеры мешают врачам использовать профосмотр как инструмент ранней диагностики?
Главный барьер — это отсутствие возможности дообследования пациента сразу же после профессионального осмотра. Причины — прикреплённость к месту жительства и подушевое финансирование поликлиник в системе ОМС. Даже если человек имеет полис ОМС по Москве или другому городу, он не всегда может попасть на дообследование в регионе, где проходит профосмотр. Поликлиники, перегруженные своим населением, неохотно оказывают помощь «чужакам». Человеку приходится либо платить из своего кармана, либо ехать домой, либо менять прикрепление к поликлинике в другом городе — это и затраты, и время, и риски остаться без медпомощи по возвращении с работы в свой регион. Особенно тяжело финансово незащищённым категориям в период трудоустройства.
Формально межтерриториальные расчёты в системе ОМС существуют, но на практике многие клиники отказывают в помощи «чужим» пациентам. Они ориентируются на своё прикреплённое население, за которое получают подушевые средства. Несмотря на то, что такая помощь — плановая и должна быть доступна, реализация этой нормы часто буксует.
Ситуацию могли бы спасать договоры на ДМС. Но это прерогатива крупных предприятий. У небольших компаний часто нет финансовых возможностей для организации ДМС, и сотрудники остаются один на один с системой ОМС.
Какую роль играет информированность самого врача? Все ли специалисты понимают, какие факторы риска важны именно на вахте?
Информированность врача — это фундамент. Специалист должен не только уметь читать анализы, но и понимать, в каких условиях трудится человек, какие вредные факторы могут влиять на здоровье, каковы ранние признаки тех или иных нарушений. Ещё врач должен разбираться и в юридических аспектах — чтобы объяснить сотруднику, что делать, если есть противопоказания, как реализовать своё право на труд и на лечение.
Специалисты, которые проводят профосмотры, хорошо ориентируются в этих вопросах. А вот участковые врачи, к которым мы направляем людей на дообследование, часто не понимают специфики. Они оценивают «трудоспособность» в целом, а не «профессиональную пригодность» к вахтовым условиям. А между этими понятиями есть большая разница.
Поэтому мы обязательно уточняем цель дообследования в направлении: просим определить стадию заболевания, частоту обострений, указать применяемую терапию. Чтобы потом можно было объективно принять решение о допуске к вахтовым работам на удалённых объектах.
Выходит, что уровень информированности среди медиков по вопросам профессиональной патологии остаётся низким. Не все врачи, привлекаемые к проведению обязательных медосмотров, проходят регулярное повышение квалификации по профессиональной патологии, не все специалисты поликлиник и стационаров посещают конференции профпатологов. А без этого невозможно принимать качественные медицинские решения по профессиональной пригодности с учётом имеющихся заболеваний.
Психологические и эмоциональные риски и их важность во время профосмотра
Как сейчас проходит оценка психоэмоционального состояния сотрудников? И правда ли, что всё сводится к формальным вопросам от психиатра и нарколога?
Полноценная оценка психоэмоционального состояния проводится только у узких категорий работников — к примеру, у тех, кто работает с ионизирующим излучением или получает водительскую справку. В рамках стандартного профосмотра эмоциональное выгорание, тревожность, стресс или депрессивные состояния никак не учитываются.
А ведь потребность в такой оценке огромна. Мы у себя проводили опрос среди сотрудников — почти 80% оказались в «серой зоне» риска выгорания. Повышенная нагрузка, ответственность, многозадачность, работа «от и до» — всё это истощает психику. Особенно это актуально для вахтовых профессий, где изоляция, отсутствие контакта с семьёй и замкнутый коллектив могут серьёзно повлиять на состояние человека.
По сути, сегодня в системе профосмотров никак не фиксируются риски психоэмоционального выгорания, и это большая проблема. Если бы мы внедрили даже простые тесты, как в атомной или космической медицине, думаю, реабилитация потребовалась бы более чем 60% обследуемых.
Какие методы сегодня реально помогают оценить устойчивость к экстремальным условиям?
В космической отрасли, на атомных объектах, в некоторых государственных структурах оценка проводится регулярно — тесты, беседы, наблюдение. Люди, работающие там, проходят предварительный отбор и находятся под постоянным наблюдением. А вот вахтовики, особенно на удалённых объектах, остаются без такой поддержки.
Хотя именно они сталкиваются с изоляцией, замкнутым пространством, необходимостью взаимодействовать в постоянном коллективе. Психоэмоциональная стабильность — это не абстрактный показатель, а условие безопасности и качества работы. Один эмоционально нестабильный человек может стать источником конфликта или даже угрозы для команды.
Можно ли выстроить систему психологической подготовки и отбора для вахты, особенно если речь о труднодоступных местах?
Да, и более того — я за такую систему обеими руками. Но при нынешнем кадровом дефиците это сложно. Но с профессиональной точки зрения это абсолютно оправданно. Должны быть разработаны анкеты, тесты, процедуры оценки. Это не должно быть поводом отказа в работе — скорее инструментом осознанного выбора. Человек должен понимать, на что он идёт, и быть готов к условиям.
В перспективе можно представить систему, где удалённость объекта и тяжесть условий предполагают обязательное психологическое тестирование. Если тест не пройден — можно предложить другую должность или другой график. Это лучше, чем потеря сотрудника или срыв работы всей команды.
Сегодня таких программ нет. Но опыт уже есть: у водителей, у космонавтов, в некоторых госкорпорациях. Осталось только адаптировать эти подходы под вахтовую специфику и сделать их частью профосмотра.
Будущее профосмотров в России
В какую сторону движется система профосмотров в России?
Мы уже видим, как профосмотры начинают трансформироваться. На уровне нормативных актов появилась возможность проводить предрейсовые и предсменные осмотры в цифровом формате. Это закреплено в приказе Минздрава № 266н, где предусмотрены телемедицинские консультации для допуска к рабочей смене на удалённых объектах.
Происходит постепенное объединение медицинских данных. В государственных клиниках, где уже внедрена электронная медицинская документация, заключения профпатологов и выявленные противопоказания автоматически попадают в личный кабинет сотрудника на портале «Госуслуги». Сотрудник, профпатолог и работодатель (при наличии согласия) видят одни и те же данные. Это не только делает процесс прозрачным, но и поднимает важный вопрос: если скрыть заболевание невозможно, значит, и допуск к работе нужно выстраивать иначе. Не на основе единичного профосмотра, а с учётом полной картины здоровья и возможности динамического наблюдения за здоровьем сотрудников на удалённых объектах.
Какие шаги нужно сделать, чтобы профосмотры стали эффективнее?
Ключевой шаг — изменить схему финансирования. Сегодня медосмотры оплачивает работодатель, и это создаёт конфликт интересов. Работодатель заинтересован в допуске, а медорганизация зависима от его контракта. Это мешает объективной оценке здоровья. Поэтому я считаю, что профосмотры должны финансироваться через Фонд социального страхования — по аналогии с компенсациями за производственные травмы. Тогда медицинские организации, оказывающие медуслуги по профосмотрам, будут работать независимо, а сотрудник получит качественную помощь и своевременную реабилитацию.
Также нужно внедрить модель допуска к работам на удалённых объектах и вахтовым методом до заезда на объект. Как с призывниками: пока не пройден медосмотр по месту жительства, на объект человек не едет. Это избавит от ситуации, когда работника приходится отстранять уже на вахте. Всё обследование и необходимые дообследования будут завершены заранее.
И необходимо расширить перечень обследований, чтобы диагностировать ранние признаки профессиональной патологии при множестве вредных условий труда и своевременно проводить реабилитацию.
Нужны ли прицельные обследования — и какие именно?
Да, особенно если речь о сотрудниках с выявленными отклонениями, препятствующими прохождению профосмотра. К примеру, УЗИ сердца или сосудов нижних конечностей, консультация сурдолога. Эти исследования не слишком затратны, но найти их по ОМС в другом регионе сложно. Я считаю, что такие дообследования должны быть включены в систему профосмотра — пусть не для всех, но хотя бы для 30–50% нуждающихся.
Это можно закрепить отдельным пунктом в приказе по медосмотрам: в случае необходимости — расширить обследование за счёт работодателя. Перечень таких исследований уже есть, он применяется по ДМС в нефтегазовых компаниях. Нужно просто легализовать эту практику для всех.
И как говорилось ранее, к каждому виду вредных и (или) опасных производственных факторов проработать перечень обследований с целью выявления первых признаков профессиональной патологии и включить в нормативно-правовые акты, с оплатой за счёт средств работодателя или других источников, утверждённых правительством РФ.
Как могла бы выглядеть идеальная модель профосмотра для удалённых объектов?
В идеале — это модель с независимым финансированием, прозрачной цифровой системой и индивидуальным подходом. Медорганизация ведёт динамическое наблюдение за сотрудником. Финансирование идёт не от работодателя, а через фонд соцстраха. Все данные автоматически обновляются в единой системе здравоохранения, доступны врачу и пациенту.
Допуск выдаётся до вахты — после прохождения всех обследований. Если требуется дообследование, оно назначается и оплачивается в рамках утверждённого перечня. А если есть противопоказания, сотруднику подбирается другая позиция или график, а не просто «отказ от работы».
Эта модель потребует усилий, но она реальна. И, главное, она позволит сохранить здоровье сотрудников и обеспечить устойчивую работу предприятий даже в самых сложных условиях.